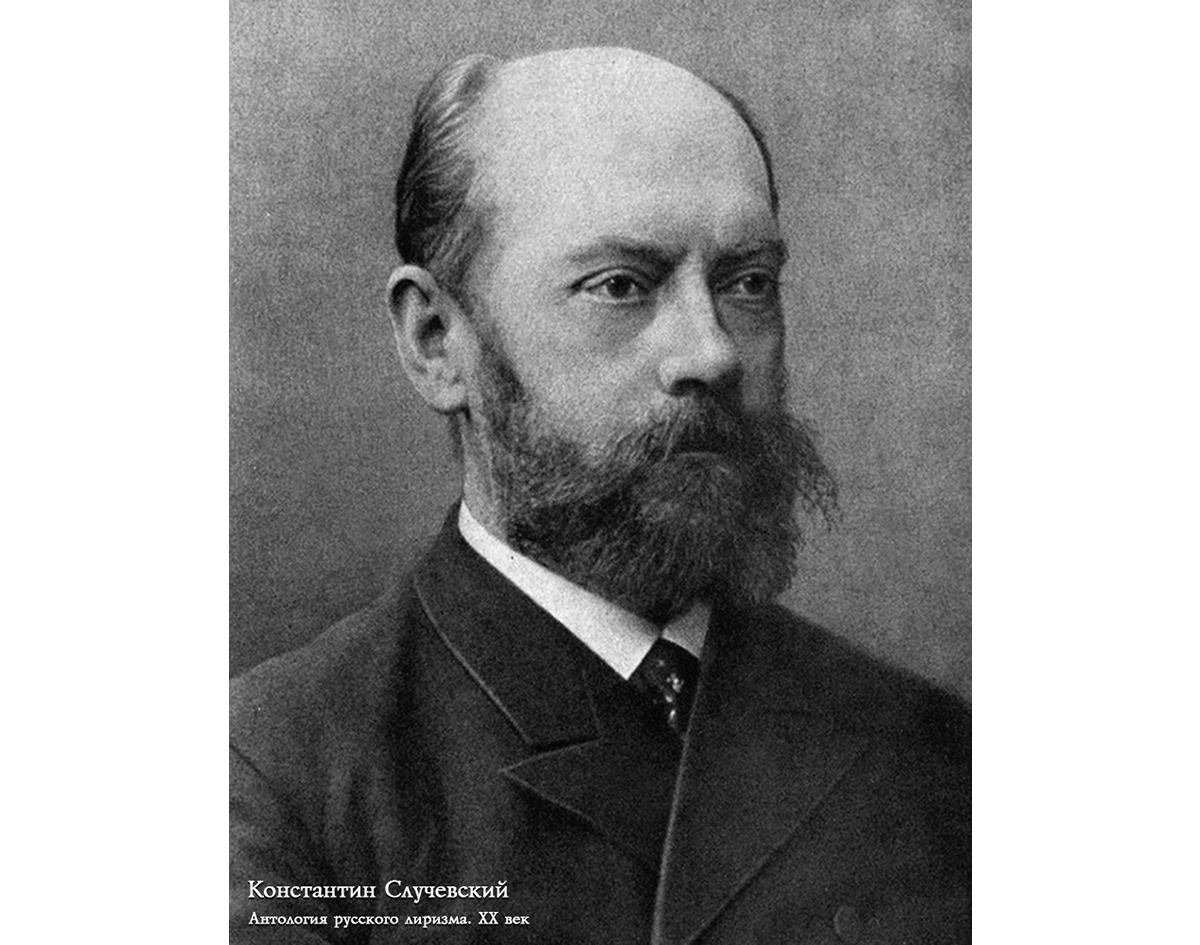Родился в семье сенатора; окончив с отличием Первый кадетский корпус, был определён в знаменитый гвардейский Семёновский полк. Отличался богатырским сложением, отменной выправкой, мощным баритоном. В 1859 году поступил в Академию Генштаба.
Через год — внезапный выход в отставку, отъезд в Европу. Причиной послужил скандал, организованный Д. Минаевым, В. Курочкиным и др. в связи с ярким поэтическим дебютом гвардейского офицера в журналах «Отечественные записки» и «Современник»*.
Вернувшись в Россию через шесть лет доктором философии (диплом Гейдельберга), К. Случевский поступает на гражданскую службу и, не переставая писать и осторожно публиковать стихи, с годами достигает изрядных чинов: главный редактор «Правительственного вестника», член Совета министерства внутренних дел, член Учёного совета министерства народного просвещения, гофмейстер двора Его Императорского Высочества...
Отец шестерых детей.
В 1898 году вышло 6-томное Собрание сочинений; новые поэты охотно печатают его стихи в своих изданиях, называя автора предтечей...
Умер Константин Константинович Случевский в своём «Уголке», на даче в Усть-Нарве, после долгих тяжких мук (рак желудка), написав в один из последних дней: «Я — ошибка жизни».
__________________________________
* Ап. Григорьев назвал дебютанта гением.
* * *
Здесь всё моё! — Высь небосклона,
И солнца лик, и глубь земли,
Призыв молитвенного звона,
И эти в море корабли;
Мои — все сёла над равниной,
Стога, возникшие окрест,
Река с болтливою стремниной
И всё былое этих мест...
Здесь для меня живут и ходят...
Мне — свежесть волн, мне — жар огня,
Туманы даже, те, что бродят, —
И те мои и для меня!
И в этом чудном обладанье,
Как инок, на исходе дней,
Пишу последнее сказанье,
Ещё одно, других ясней!
Пускай живое песнопенье
В родной мне русский мир идёт,
Где можно — даст успокоенье,
И никогда, ни в чём не лжёт.
* * *
По завалинкам у хат
Люди в сумерках сидят;
Подле кони и волы
Чуть виднеются из мглы.
Сны ночные тоже тут,
Собираются, снуют
В огородах, вдоль кустов,
На крылах сычей и сов.
Вот зелёный свет луны
Тихо канул с вышины...
Что как если с тем лучом
Сыч вдруг станет молодцом,
Глянет девушкой сова,
Скажет милые слова,
Да и хата, наконец,
Обратится во дворец?
* * *
Да! Молча сгинуть, жизнь отдать,
Нам, русским, не учиться стать!
Вот чем, чужой нас не поймёт,
Так самобытен наш народ.
Что в том, чтоб с блеском умереть,
Когда толпы идут смотреть,
И удивляться, и кадить —
Нет, тут легко героем быть!
Один уж ценный мавзолей,
Имеющий на свет явиться,
Который в тишине ночей
Герою до геройства снится, —
Он стоит, чтоб идти страдать!
Но — за ничто себя отдать,
Не мысля никакой награды,
Себя нимало не беречь,
И, если надобно, полечь
За чувство тёмное, за вклады
Отцов духовные, за что-то,
Что неизменно ни на йоту,
Чему антипод — слово «грех!»;
Носить в крови, в мозгу народа
Самозабвенья идеал,
Тот, что не даст одна свобода
В своих потугах без исхода;
Которого, как ни искал,
В науке ум не обретал...
Да! Эта музыка терпенья
Полна великого значенья.
* * *
Сказал бы я так много, много;
Но не успею, — срок мне дан!
Короток день, узка дорога,
И так громаден караван...
Оставить многое придётся...
А жаль!.. Хорошая есть кладь...
Не всем на свете удаётся
Всё, что хотел бы кто, сказать...
Вот отчего красноречивы
Молчанья кладбищ!.. Невпопад,
Не в срок засеянные нивы, —
Они под спудом дней молчат.
Но из безмолвного общенья
Жильца земли с жильцом могил
Не раз шли первые движенья
Неудержимо мощных сил...
* * *
Не погасай хоть ты, — ты, пламя золотое,
Любви негаданной последний огонёк!
Ночь жизни так темна, покрыла всё земное,
Всё пусто, всё мертво, и ты горишь не в срок!
Но чем темнее ночь, сильней любви сиянье;
Я на огонь иду, и я идти хочу...
Иду... Мне всё равно: свои ли я желанья,
Чужие ль горести в пути ногой топчу,
Родные ль под ногой могилы попираю,
Назад ли я иду, иду ли я вперёд,
Неправ я или прав, — не ведаю, не знаю
И знать я не хочу! Меня судьба ведёт...
В движенье этом жизнь так ясно ощутима,
Что даже мысль о том, что и любовь — мечта,
Как тысячи других, мелькает мимо, мимо,
И легче кажутся и мрак, и пустота...
* * *
Меня здесь нет. Я там, далёко,
Там, где-то в днях пережитых!
За далью их не видит око,
И нет свидетелей живых.
Я там, весь там, за серой мглою!
Здесь нет меня; другим я стал,
Забыв, где был я сам собою,
Где быть собою перестал...
ЗАГРОБНЫЕ ПЕСНИ
(фрагменты)
XI
На третий день меня похоронили,
Толпа большая вслед за гробом шла;
Друзья, враги – все налицо здесь были;
Тут был и я, душа моя была...
Жалели все вдову, мою супругу!
С моим она под ручку другом шла;
Она сильней, чем должно, жалась к другу,
Печаль её была полусветла!
Виновен я, конечно, и не скрою...
Друг шепчет ей: «Смерть – общий всем удел!»
Лицо жены ответило игрою...
Сквозь чёрный креп я ясно разглядел.
Три дня назад, когда б о том узнал я,
Я был бы яростен! Но я теперь отпет...
И чувство жалости, и только, восприял я, –
Мгновенно, вдруг, без всяких «да» иль «нет»!
XII
Да! Я – не я!.. но существую...
Лечу ли я... сижу... стою...
Поют, я слышу, аллилуйю...
Мне мнится, что и я пою!
Во мне, как бы туманы, тают
Следы болезни... весь я – страх!
Должно быть, то же ощущают
Все в мире женщины в родáх,
Когда из тягостных мучений,
Из столбняков и из потуг,
В одно из счастливых мгновений,
Совсем негаданно и вдруг
Конец приходит острой боли,
Истомы сладость настаёт,
И свет счастливой новой доли
Себя в младенце знать даёт...
XIII
И я предстал сюда, весь полн непониманья...
Дитя безпомощное... чуть глаза открыв,
Я долго трепетал в неясности сознанья
Того, что я живу, что я иначе жив.
Меня от детских лет так лживо вразумляли
О смерти, о душе, что будет с ней потом;
При мне так искренно на кладбищах рыдали,
В могилы унося почивших вечным сном;
Все пенья всех церквей полны такой печали,
Так ярко занесён в сердца людей скелет, –
Что с самых ранних дней сомненья возникали:
Что, если плачут так, – загробной жизни нет?!
Нет! надо и́наче учить от колыбели…
Долой весь тёмный груз туманов с головы...
Нет, надобно, чтоб мы совсем светло глядели
И шествовали в смерть, как за звездой волхвы!
Тогда бы верили мы все и безгранично,
Что смерть – желанная! что алые уста
Нас зацеловывают каждого, всех, лично, –
И тайна вечности спокойна и проста!
XV
Две первые встречи: отец мой и мать!
Как их в легионах других не узнать!
Сказали, что ждали меня уж давно;
Боялись, что дольше им ждать суждено,
Что в дни предпоследней болезни моей,
Для них, в созерцанье духовных очей,
Казалось: вот, вот я тогда отойду...
Но нет. Я припомнил, что в ярком бреду,
Тогда, в той болезни, когда умирал,
Я чудные очи сквозь дымку видал...
Склонились два светлые лика ко мне...
Но вдруг всё погасло тогда! В полусне
Я будто бы слышал: «Чуть стало светло,
Лекарство мы дали ему. Помогло!
Пульс крепче, испарина есть; будет жив».
И жил я ещё, от лекарства вкусив...
«Хвала медицине!» – кричали тогда.
Я долгие прожил за этим года;
Но вот совершилось... пришёл мой конец...
Голубушка матушка! Здравствуй, отец!
* * *
Умéрший я не отрицаю
Ни тяготенья, ни наук;
Значенье их в миру я знаю;
Но здесь они – пустейший звук!
В них только отклики былого...
Почти что так же на земле
Безсмертие – святое слово –
Скрывалось, будто бы во мгле.
В тончайших выводах познанья
Светлейших, выспренных умов
Всегда являлась, вне сознанья,
Суть сутей... не хватало слов!
Что проще, – здесь давно решили,
На чём честнее стать в тупик:
Как мыслим дух без плоти – или
Как мир из клеточки возник?
Через год — внезапный выход в отставку, отъезд в Европу. Причиной послужил скандал, организованный Д. Минаевым, В. Курочкиным и др. в связи с ярким поэтическим дебютом гвардейского офицера в журналах «Отечественные записки» и «Современник»*.
Вернувшись в Россию через шесть лет доктором философии (диплом Гейдельберга), К. Случевский поступает на гражданскую службу и, не переставая писать и осторожно публиковать стихи, с годами достигает изрядных чинов: главный редактор «Правительственного вестника», член Совета министерства внутренних дел, член Учёного совета министерства народного просвещения, гофмейстер двора Его Императорского Высочества...
Отец шестерых детей.
В 1898 году вышло 6-томное Собрание сочинений; новые поэты охотно печатают его стихи в своих изданиях, называя автора предтечей...
Умер Константин Константинович Случевский в своём «Уголке», на даче в Усть-Нарве, после долгих тяжких мук (рак желудка), написав в один из последних дней: «Я — ошибка жизни».
__________________________________
* Ап. Григорьев назвал дебютанта гением.
* * *
Здесь всё моё! — Высь небосклона,
И солнца лик, и глубь земли,
Призыв молитвенного звона,
И эти в море корабли;
Мои — все сёла над равниной,
Стога, возникшие окрест,
Река с болтливою стремниной
И всё былое этих мест...
Здесь для меня живут и ходят...
Мне — свежесть волн, мне — жар огня,
Туманы даже, те, что бродят, —
И те мои и для меня!
И в этом чудном обладанье,
Как инок, на исходе дней,
Пишу последнее сказанье,
Ещё одно, других ясней!
Пускай живое песнопенье
В родной мне русский мир идёт,
Где можно — даст успокоенье,
И никогда, ни в чём не лжёт.
* * *
По завалинкам у хат
Люди в сумерках сидят;
Подле кони и волы
Чуть виднеются из мглы.
Сны ночные тоже тут,
Собираются, снуют
В огородах, вдоль кустов,
На крылах сычей и сов.
Вот зелёный свет луны
Тихо канул с вышины...
Что как если с тем лучом
Сыч вдруг станет молодцом,
Глянет девушкой сова,
Скажет милые слова,
Да и хата, наконец,
Обратится во дворец?
* * *
Да! Молча сгинуть, жизнь отдать,
Нам, русским, не учиться стать!
Вот чем, чужой нас не поймёт,
Так самобытен наш народ.
Что в том, чтоб с блеском умереть,
Когда толпы идут смотреть,
И удивляться, и кадить —
Нет, тут легко героем быть!
Один уж ценный мавзолей,
Имеющий на свет явиться,
Который в тишине ночей
Герою до геройства снится, —
Он стоит, чтоб идти страдать!
Но — за ничто себя отдать,
Не мысля никакой награды,
Себя нимало не беречь,
И, если надобно, полечь
За чувство тёмное, за вклады
Отцов духовные, за что-то,
Что неизменно ни на йоту,
Чему антипод — слово «грех!»;
Носить в крови, в мозгу народа
Самозабвенья идеал,
Тот, что не даст одна свобода
В своих потугах без исхода;
Которого, как ни искал,
В науке ум не обретал...
Да! Эта музыка терпенья
Полна великого значенья.
* * *
Сказал бы я так много, много;
Но не успею, — срок мне дан!
Короток день, узка дорога,
И так громаден караван...
Оставить многое придётся...
А жаль!.. Хорошая есть кладь...
Не всем на свете удаётся
Всё, что хотел бы кто, сказать...
Вот отчего красноречивы
Молчанья кладбищ!.. Невпопад,
Не в срок засеянные нивы, —
Они под спудом дней молчат.
Но из безмолвного общенья
Жильца земли с жильцом могил
Не раз шли первые движенья
Неудержимо мощных сил...
* * *
Не погасай хоть ты, — ты, пламя золотое,
Любви негаданной последний огонёк!
Ночь жизни так темна, покрыла всё земное,
Всё пусто, всё мертво, и ты горишь не в срок!
Но чем темнее ночь, сильней любви сиянье;
Я на огонь иду, и я идти хочу...
Иду... Мне всё равно: свои ли я желанья,
Чужие ль горести в пути ногой топчу,
Родные ль под ногой могилы попираю,
Назад ли я иду, иду ли я вперёд,
Неправ я или прав, — не ведаю, не знаю
И знать я не хочу! Меня судьба ведёт...
В движенье этом жизнь так ясно ощутима,
Что даже мысль о том, что и любовь — мечта,
Как тысячи других, мелькает мимо, мимо,
И легче кажутся и мрак, и пустота...
* * *
Меня здесь нет. Я там, далёко,
Там, где-то в днях пережитых!
За далью их не видит око,
И нет свидетелей живых.
Я там, весь там, за серой мглою!
Здесь нет меня; другим я стал,
Забыв, где был я сам собою,
Где быть собою перестал...
ЗАГРОБНЫЕ ПЕСНИ
(фрагменты)
«Есть вещи, сомневаться в которых безнаказанно нельзя и которым нельзя верить из боязни показаться смешным... Что касается меня, то полнейшее незнание мною того, как появляется в мире дух человека и как исчезает он, возбраняет мне отрицать правду различных проявлений. Я позволяю себе отрицать тот или другой факт в отдельности и всё-таки верю в то, что они правда в их совокупности».
И. Кант
XI
На третий день меня похоронили,
Толпа большая вслед за гробом шла;
Друзья, враги – все налицо здесь были;
Тут был и я, душа моя была...
Жалели все вдову, мою супругу!
С моим она под ручку другом шла;
Она сильней, чем должно, жалась к другу,
Печаль её была полусветла!
Виновен я, конечно, и не скрою...
Друг шепчет ей: «Смерть – общий всем удел!»
Лицо жены ответило игрою...
Сквозь чёрный креп я ясно разглядел.
Три дня назад, когда б о том узнал я,
Я был бы яростен! Но я теперь отпет...
И чувство жалости, и только, восприял я, –
Мгновенно, вдруг, без всяких «да» иль «нет»!
XII
Да! Я – не я!.. но существую...
Лечу ли я... сижу... стою...
Поют, я слышу, аллилуйю...
Мне мнится, что и я пою!
Во мне, как бы туманы, тают
Следы болезни... весь я – страх!
Должно быть, то же ощущают
Все в мире женщины в родáх,
Когда из тягостных мучений,
Из столбняков и из потуг,
В одно из счастливых мгновений,
Совсем негаданно и вдруг
Конец приходит острой боли,
Истомы сладость настаёт,
И свет счастливой новой доли
Себя в младенце знать даёт...
XIII
И я предстал сюда, весь полн непониманья...
Дитя безпомощное... чуть глаза открыв,
Я долго трепетал в неясности сознанья
Того, что я живу, что я иначе жив.
Меня от детских лет так лживо вразумляли
О смерти, о душе, что будет с ней потом;
При мне так искренно на кладбищах рыдали,
В могилы унося почивших вечным сном;
Все пенья всех церквей полны такой печали,
Так ярко занесён в сердца людей скелет, –
Что с самых ранних дней сомненья возникали:
Что, если плачут так, – загробной жизни нет?!
Нет! надо и́наче учить от колыбели…
Долой весь тёмный груз туманов с головы...
Нет, надобно, чтоб мы совсем светло глядели
И шествовали в смерть, как за звездой волхвы!
Тогда бы верили мы все и безгранично,
Что смерть – желанная! что алые уста
Нас зацеловывают каждого, всех, лично, –
И тайна вечности спокойна и проста!
XV
Две первые встречи: отец мой и мать!
Как их в легионах других не узнать!
Сказали, что ждали меня уж давно;
Боялись, что дольше им ждать суждено,
Что в дни предпоследней болезни моей,
Для них, в созерцанье духовных очей,
Казалось: вот, вот я тогда отойду...
Но нет. Я припомнил, что в ярком бреду,
Тогда, в той болезни, когда умирал,
Я чудные очи сквозь дымку видал...
Склонились два светлые лика ко мне...
Но вдруг всё погасло тогда! В полусне
Я будто бы слышал: «Чуть стало светло,
Лекарство мы дали ему. Помогло!
Пульс крепче, испарина есть; будет жив».
И жил я ещё, от лекарства вкусив...
«Хвала медицине!» – кричали тогда.
Я долгие прожил за этим года;
Но вот совершилось... пришёл мой конец...
Голубушка матушка! Здравствуй, отец!
* * *
Умéрший я не отрицаю
Ни тяготенья, ни наук;
Значенье их в миру я знаю;
Но здесь они – пустейший звук!
В них только отклики былого...
Почти что так же на земле
Безсмертие – святое слово –
Скрывалось, будто бы во мгле.
В тончайших выводах познанья
Светлейших, выспренных умов
Всегда являлась, вне сознанья,
Суть сутей... не хватало слов!
Что проще, – здесь давно решили,
На чём честнее стать в тупик:
Как мыслим дух без плоти – или
Как мир из клеточки возник?