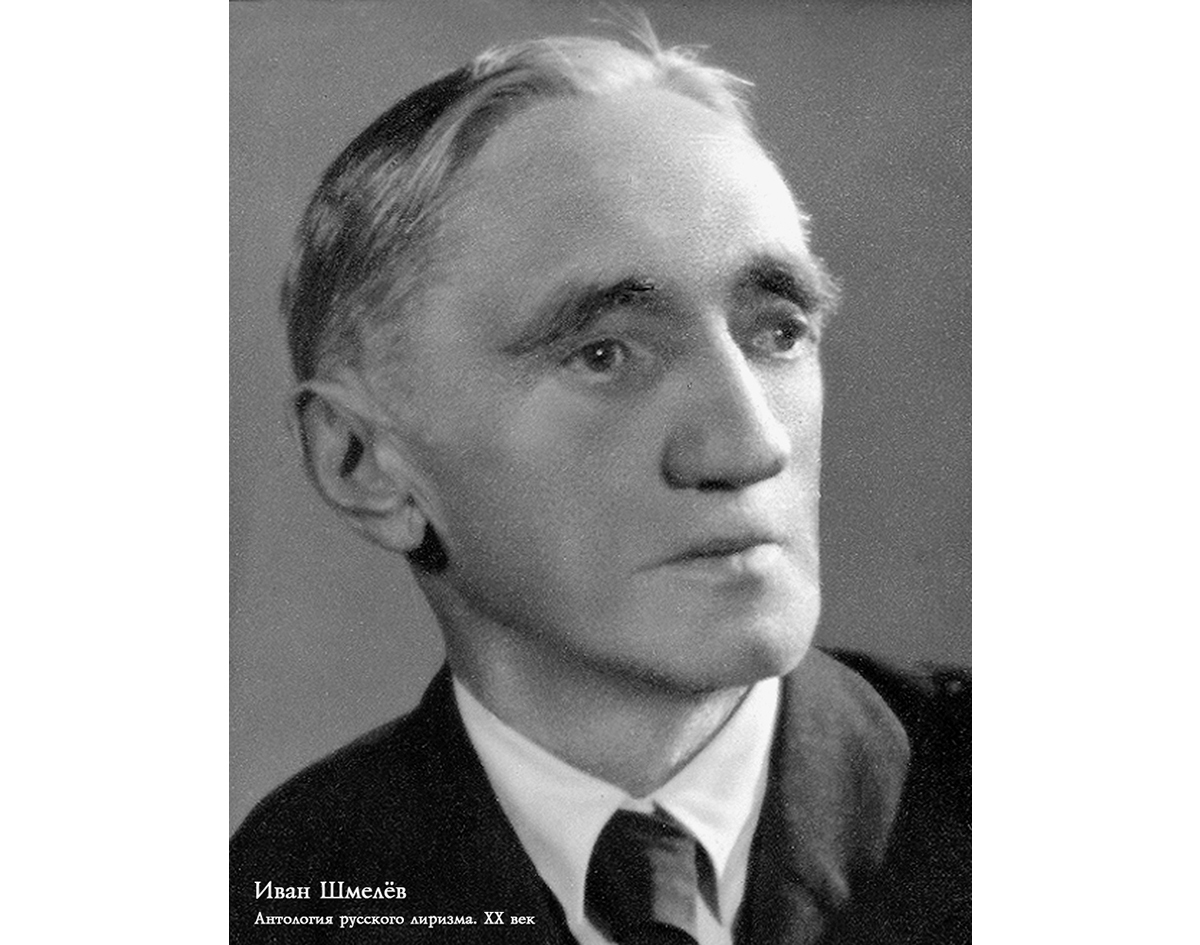Москвич из Кадашевской слободы* (Замоскворечье). Горячо любимый им отец (строитель-подрядчик) умер в 1880 году.
Окончив юридический факультет Московского университета (1898 г.), служил чиновником в небольших городах Московской и Владимирской губерний.
В литературу входил серией рассказов и повестей 1905–1911 гг., публиковавшихся в журнале «Детское чтение». После отставки (1907 г.) входит в кружок «Среда» (А. Чехов, А. Куприн, В. Короленко, М. Горький и др.), в 1912 году с И. Буниным и Б. Зайцевым работает в «Книгоиздательстве писателей в Москве»; издаёт ряд сборников прозы.
К революции отнёсся настороженно, однако уезжать не собирался — приобрёл в Алуште дом с участком (1918 г.), где спустя два года пережил тяжелейшую депрессию, узнав о гибели единственного сына Сергея**.
Эмигрировал в 1922-м: Берлин, позже Париж. К 1950 году опубликовал около 20 книг (среди которых «Солнце мёртвых», «Лето Господне», «Богомолье», «Пути небесные»), испытывая постоянное остро враждебное отношение лидеров эмигрантов-петербуржцев.
Умер Иван Сергеевич Шмелёв в русском монастыре Покрова Божией Матери, расположенном в Бюсси-ан-От; похоронен был в Париже.
В мае 2000 года его прах, согласно завещанию, перенесён в Россию и погребён рядом с могилой отца в некрополе Донского монастыря в Москве.
Новые книги издаются регулярно; в 2015 году в Москве вышло пятитомное собрание сочинений И. Шмелёва. В Алуште открыт дом-музей (1993), в Москве установлен бюст (2000).
___________________________________
* В прежние времена там селились кадаши — бочары.
** С. И. Шмелёв, офицер-артиллерист, с фронтов Первой мировой попал в Белую армию. Уйти с Врангелем в эмиграцию не захотел. Арестован был в Феодосии, в госпитале, где лечился от туберкулёза. Расстрелян без суда красноармейцами Белы Куна.
...кап... кап-кап... кап... кап-кап-кап...
Засыпая, всё слышу я, как шуршит по железке за окошком, постукивает сонно, мягко — это весеннее, обещающее — кап-кап... Это не скучный дождь, как зарядит, бывало, на неделю: это весёлая мартовская капель. Она вызывает солнце. Теперь уж везде капель.
Под сосенкой — кап-кап...
Под ёлочкой — кап-кап...
Прилетели грачи, — теперь уж пойдёт, пойдёт. Скоро и водополье хлынет, рыбу будут ловить намётками — пескариков, налимов, — принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят: возьмётся дружно — поплывёт всё Замоскворечье! Значит, зальёт и водокачку, и бани станут... будем на плотиках кататься.
В тревожно-радостном полусне слышу я это, всё торопящееся — кап-кап... Радостное за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать.
...кап-кап... кап-кап-кап... кап-кап...
Уже тараторит по железке, попрыгивает-пляшет, как крупный дождь.
Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль — «взялась!». Конечно, весна взялась. Протираю глаза спросонок, и меня ослепляет светом. Полог с моей кроватки сняли, когда я спал, — в доме большая стирка, великопостная, — окна без занавесок, и такой день чудесный, такой весёлый, словно и нет поста. Да какой уж теперь и пост, если пришла весна. Вон как капель играет... — тра-та-та-та! А сегодня поедем с Горкиным за Москва-реку, в самый «город», на грибной рынок, где — все говорят — как праздник.
Защурив глаза, я вижу, как в комнату льётся солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотинки. По таким полосам, от Бога, спускаются с неба ангелы, — я знаю по картинкам. Если бы к нам спустился!
...По завеянному снежком двору бродят куры и голуби, выбирают просыпанный лошадьми овёс. С крыш уже прямо льёт, и на заднем дворе, у подтаявших штабелей сосновых, начинает копиться лужа — верный зачин весны. Ждут её не дождутся вышедшие на волю утки: стоят и лущат носами жидкий с воды снежок, часами стоят на лапке. А невидные ручейки сочатся. Смотрю и я: скоро на плотике кататься. Стоит и Василь Василич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину:
— Ругаться опять будет, а куда её, шельму, денешь! Совсюду в её текёт, так уж устроилось. И на самом-то на ходу... передки вязнут, досок не вывезешь. Опять, лешая, набирается!..
— И не трожь её лучше, Вася... — советует и Горкин. — Спокон веку она живёт. Так уж тут ей положено. Кто её знает... может, так, ко двору прилажена!.. И глядеть привычно, и уточкам разгулка...
Я рад. Я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на брёвнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают чурбачки.
— И до нас была, Господь с ней... о-ставь.
А Василь Василич всё думает. Ходит и крякает, выдумать ничего не может: совсюду стёк! Подкрякивают ему и утки: так-так... так-так... Пахнет от них весной, весеннею тёплой кислотцою. Потягивает из-под навесов дёгтем: мажут там оси и колёса, готовят выезд. И от согревшихся штабелей сосновых острою кислотцою пахнет, и от сараев старых, и от лужи, — от спокойного старого двора.
— Была как — пущай и будет так! — решает Василь Василич. — Так и скажу хозяину.
— Понятно: так и скажи: пущай её остаётся так.
Подкрякивают утки, радостные, — так-так... так-так... И капельки с сараев радостно тараторят наперебой — кап- кап-кап... И во всём, что ни вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне — так-так. И безмятежно отстукивает сердце — так-так...
Масленица... Я и теперь ещё чувствую это слово, как чувствовал его в детстве: яркие пятна, звоны вызывает оно во мне; пылающие печи, синеватые волны чада, в довольном гуле набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней весёлыми санями, с весёлыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игривыми переборами гармоньи. Или с детства осталось во мне чудесное, не похожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело называлось — «масленица»? Она стояла на высоком прилавке в банях. На большом круглом прянике — на блине? — от которого пахло мёдом — и клеем пахло! — с золочёными горками по краю, с дремучим лесом, где торчали на колышках медведи, волки и зайчики, — поднимались чудесные пышные цветы, похожие на розы, и всё это блистало, обвитое золотою канителью... Чудесную эту «масленицу» устраивал старичок в Зарядье, какой-то Иван Егорыч. Умер неведомый Егорыч — и «масленицы» исчезли. Но живы они во мне. Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда... все и всё были со мною связаны, и я был со всеми связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на «убогий блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звёздами, с лаской глядел на всех: масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь ещё для меня жива яркая радость, перед грустью... — перед постом?
Оттепели всё чаще, снег маслится. С солнечной стороны висят стеклянною бахромою сосульки, плавятся-звякают о льдышки. Прыгаешь на одном коньке, и чувствуется, как мягко режет, словно по толстой коже. Прощай, зима! Это и по галкам видно, как они кружат «свадьбой», и цокающий их гомон куда-то манит. Болтаешь коньком на лавочке и долго следишь за чёрной их кашей в небе. Куда-то скрылись. И вот проступают звёзды. Ветерок сыроватый, мягкий, пахнет печёным хлебом, вкусным дымком берёзовым, блинами. Капает в темноте, — масленица идёт. Давно на окне в столовой поставлен огромный ящик: посадили лучок, «к блинам»; зелёные его пёрышки — большие, приятно гладить. Мальчишка от мучника кому-то провёз муку. Нам уже привезли: мешок голубой крупчатки и четыре мешка «людской». Привезли и сухих дров, берёзовых. «Еловые стрекают, — сказал мне ездок Михайла, — «галочка» не припёк. Уж и поедим мы с тобой блинков!»
...Поздний вечер. Заговелись перед постом. Завтра будет печальный звон. Завтра «Господи и Владыко живота моего...» будет. Сегодня Прощёный день, и будем просить прощенья: сперва у родных, потом у прислуг, у дворника, у всех. Вассу кривую встретишь, которая живёт в «тёмненькой», и у той надо просить прощенья. Идти к Гришке и поклониться в ноги? Недавно я расколол лопату, и он сердился. А вдруг он возьмёт и скажет — «не прощаю!»?
Падаем друг дружке в ноги. Немножко смешно и стыд-но, но после делается легко, будто грехи очистились.
Мы сидим в столовой и после ужина доедаем орешки и пастилу, чтобы уже ничего не осталось на Чистый понедельник. Стукает дверь из кухни, кто-то лезет по лестнице, тычется головою в дверь. Это Василь Василич, взъерошенный, с напухшими глазами, в расстёгнутой жилетке, в розовой под ней рубахе. Он громко падает на колени и стукается лбом в пол.
— Простите, Христа ради... для праздничка... — возит он языком и бухается опять. — Справили маслену... нагрешили... завтра в пять часов... как стёклышко... будь-пкойны-с!..
— Ступай, проспись. Бог простит!.. — говорит отец. — И нас прости, и ступай.
— И про... щаю!.. всех прощаю, как Господь... Исус Христос... велено прощать!.. — он присаживается на пятки и щупает на себе жилетку. — По-бо-жьи... все должны прощать... И все деньги ваши... до копейки!.. вся выручка, записано у меня... до гро-шика... простите Христа ради!..
Его поднимают и спроваживают в кухню. Нельзя сердиться — Прощёный день.
Постскриптум________________________________________
В великом сонме Святых России, кого своими назвал народ, вы признаете его дух и плоть: Сергия Радонежского, Тихона Задонского, Нила Сорского, Митрофания Воронежского, Серафима Саровского, всерусскими ставших с урочищ и уездов, и многих-многих, души высокой, народных подлинно. < ... > Они, Святые, открывают тайник народного Идеала, русского Идеала, народной Правды, — до поражающего явления русских «старцев», хранителей духовности народной, тех таинственных глубиной колодцев, к которым пытливо и углублённо подходили два великана — Толстой и Достоевский, и в них гляделись! < ... > «По-Божьи» — заветное слово русского народа. Вот с этим-то — «по-Божьи» — творчество наше так и войдёт — и уже входит! — в сокровищницу мира, и этой печати Божьей не отнять от нас, не сорвать, как бы кто ни дерзал на это! Может быть, за «печать»-то эту и получаем мы, русские, удивление р а з у м н ы х европейцев, кличку «странных», что идут туда — не знаю куда, ищут того — не знаю чего. Да, ищем. И найдём, быть может!
Окончив юридический факультет Московского университета (1898 г.), служил чиновником в небольших городах Московской и Владимирской губерний.
В литературу входил серией рассказов и повестей 1905–1911 гг., публиковавшихся в журнале «Детское чтение». После отставки (1907 г.) входит в кружок «Среда» (А. Чехов, А. Куприн, В. Короленко, М. Горький и др.), в 1912 году с И. Буниным и Б. Зайцевым работает в «Книгоиздательстве писателей в Москве»; издаёт ряд сборников прозы.
К революции отнёсся настороженно, однако уезжать не собирался — приобрёл в Алуште дом с участком (1918 г.), где спустя два года пережил тяжелейшую депрессию, узнав о гибели единственного сына Сергея**.
Эмигрировал в 1922-м: Берлин, позже Париж. К 1950 году опубликовал около 20 книг (среди которых «Солнце мёртвых», «Лето Господне», «Богомолье», «Пути небесные»), испытывая постоянное остро враждебное отношение лидеров эмигрантов-петербуржцев.
Умер Иван Сергеевич Шмелёв в русском монастыре Покрова Божией Матери, расположенном в Бюсси-ан-От; похоронен был в Париже.
В мае 2000 года его прах, согласно завещанию, перенесён в Россию и погребён рядом с могилой отца в некрополе Донского монастыря в Москве.
Новые книги издаются регулярно; в 2015 году в Москве вышло пятитомное собрание сочинений И. Шмелёва. В Алуште открыт дом-музей (1993), в Москве установлен бюст (2000).
___________________________________
* В прежние времена там селились кадаши — бочары.
** С. И. Шмелёв, офицер-артиллерист, с фронтов Первой мировой попал в Белую армию. Уйти с Врангелем в эмиграцию не захотел. Арестован был в Феодосии, в госпитале, где лечился от туберкулёза. Расстрелян без суда красноармейцами Белы Куна.
ЛЕТО ГОСПОДНЕ
(фрагменты)
МАРТОВСКАЯ КАПЕЛЬ
...кап... кап-кап... кап... кап-кап-кап...
Засыпая, всё слышу я, как шуршит по железке за окошком, постукивает сонно, мягко — это весеннее, обещающее — кап-кап... Это не скучный дождь, как зарядит, бывало, на неделю: это весёлая мартовская капель. Она вызывает солнце. Теперь уж везде капель.
Под сосенкой — кап-кап...
Под ёлочкой — кап-кап...
Прилетели грачи, — теперь уж пойдёт, пойдёт. Скоро и водополье хлынет, рыбу будут ловить намётками — пескариков, налимов, — принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят: возьмётся дружно — поплывёт всё Замоскворечье! Значит, зальёт и водокачку, и бани станут... будем на плотиках кататься.
В тревожно-радостном полусне слышу я это, всё торопящееся — кап-кап... Радостное за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать.
...кап-кап... кап-кап-кап... кап-кап...
Уже тараторит по железке, попрыгивает-пляшет, как крупный дождь.
Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль — «взялась!». Конечно, весна взялась. Протираю глаза спросонок, и меня ослепляет светом. Полог с моей кроватки сняли, когда я спал, — в доме большая стирка, великопостная, — окна без занавесок, и такой день чудесный, такой весёлый, словно и нет поста. Да какой уж теперь и пост, если пришла весна. Вон как капель играет... — тра-та-та-та! А сегодня поедем с Горкиным за Москва-реку, в самый «город», на грибной рынок, где — все говорят — как праздник.
Защурив глаза, я вижу, как в комнату льётся солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотинки. По таким полосам, от Бога, спускаются с неба ангелы, — я знаю по картинкам. Если бы к нам спустился!
...По завеянному снежком двору бродят куры и голуби, выбирают просыпанный лошадьми овёс. С крыш уже прямо льёт, и на заднем дворе, у подтаявших штабелей сосновых, начинает копиться лужа — верный зачин весны. Ждут её не дождутся вышедшие на волю утки: стоят и лущат носами жидкий с воды снежок, часами стоят на лапке. А невидные ручейки сочатся. Смотрю и я: скоро на плотике кататься. Стоит и Василь Василич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину:
— Ругаться опять будет, а куда её, шельму, денешь! Совсюду в её текёт, так уж устроилось. И на самом-то на ходу... передки вязнут, досок не вывезешь. Опять, лешая, набирается!..
— И не трожь её лучше, Вася... — советует и Горкин. — Спокон веку она живёт. Так уж тут ей положено. Кто её знает... может, так, ко двору прилажена!.. И глядеть привычно, и уточкам разгулка...
Я рад. Я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на брёвнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают чурбачки.
— И до нас была, Господь с ней... о-ставь.
А Василь Василич всё думает. Ходит и крякает, выдумать ничего не может: совсюду стёк! Подкрякивают ему и утки: так-так... так-так... Пахнет от них весной, весеннею тёплой кислотцою. Потягивает из-под навесов дёгтем: мажут там оси и колёса, готовят выезд. И от согревшихся штабелей сосновых острою кислотцою пахнет, и от сараев старых, и от лужи, — от спокойного старого двора.
— Была как — пущай и будет так! — решает Василь Василич. — Так и скажу хозяину.
— Понятно: так и скажи: пущай её остаётся так.
Подкрякивают утки, радостные, — так-так... так-так... И капельки с сараев радостно тараторят наперебой — кап- кап-кап... И во всём, что ни вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне — так-так. И безмятежно отстукивает сердце — так-так...
МАСЛЕНИЦА
Масленица... Я и теперь ещё чувствую это слово, как чувствовал его в детстве: яркие пятна, звоны вызывает оно во мне; пылающие печи, синеватые волны чада, в довольном гуле набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней весёлыми санями, с весёлыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игривыми переборами гармоньи. Или с детства осталось во мне чудесное, не похожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело называлось — «масленица»? Она стояла на высоком прилавке в банях. На большом круглом прянике — на блине? — от которого пахло мёдом — и клеем пахло! — с золочёными горками по краю, с дремучим лесом, где торчали на колышках медведи, волки и зайчики, — поднимались чудесные пышные цветы, похожие на розы, и всё это блистало, обвитое золотою канителью... Чудесную эту «масленицу» устраивал старичок в Зарядье, какой-то Иван Егорыч. Умер неведомый Егорыч — и «масленицы» исчезли. Но живы они во мне. Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда... все и всё были со мною связаны, и я был со всеми связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на «убогий блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звёздами, с лаской глядел на всех: масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь ещё для меня жива яркая радость, перед грустью... — перед постом?
Оттепели всё чаще, снег маслится. С солнечной стороны висят стеклянною бахромою сосульки, плавятся-звякают о льдышки. Прыгаешь на одном коньке, и чувствуется, как мягко режет, словно по толстой коже. Прощай, зима! Это и по галкам видно, как они кружат «свадьбой», и цокающий их гомон куда-то манит. Болтаешь коньком на лавочке и долго следишь за чёрной их кашей в небе. Куда-то скрылись. И вот проступают звёзды. Ветерок сыроватый, мягкий, пахнет печёным хлебом, вкусным дымком берёзовым, блинами. Капает в темноте, — масленица идёт. Давно на окне в столовой поставлен огромный ящик: посадили лучок, «к блинам»; зелёные его пёрышки — большие, приятно гладить. Мальчишка от мучника кому-то провёз муку. Нам уже привезли: мешок голубой крупчатки и четыре мешка «людской». Привезли и сухих дров, берёзовых. «Еловые стрекают, — сказал мне ездок Михайла, — «галочка» не припёк. Уж и поедим мы с тобой блинков!»
...Поздний вечер. Заговелись перед постом. Завтра будет печальный звон. Завтра «Господи и Владыко живота моего...» будет. Сегодня Прощёный день, и будем просить прощенья: сперва у родных, потом у прислуг, у дворника, у всех. Вассу кривую встретишь, которая живёт в «тёмненькой», и у той надо просить прощенья. Идти к Гришке и поклониться в ноги? Недавно я расколол лопату, и он сердился. А вдруг он возьмёт и скажет — «не прощаю!»?
Падаем друг дружке в ноги. Немножко смешно и стыд-но, но после делается легко, будто грехи очистились.
Мы сидим в столовой и после ужина доедаем орешки и пастилу, чтобы уже ничего не осталось на Чистый понедельник. Стукает дверь из кухни, кто-то лезет по лестнице, тычется головою в дверь. Это Василь Василич, взъерошенный, с напухшими глазами, в расстёгнутой жилетке, в розовой под ней рубахе. Он громко падает на колени и стукается лбом в пол.
— Простите, Христа ради... для праздничка... — возит он языком и бухается опять. — Справили маслену... нагрешили... завтра в пять часов... как стёклышко... будь-пкойны-с!..
— Ступай, проспись. Бог простит!.. — говорит отец. — И нас прости, и ступай.
— И про... щаю!.. всех прощаю, как Господь... Исус Христос... велено прощать!.. — он присаживается на пятки и щупает на себе жилетку. — По-бо-жьи... все должны прощать... И все деньги ваши... до копейки!.. вся выручка, записано у меня... до гро-шика... простите Христа ради!..
Его поднимают и спроваживают в кухню. Нельзя сердиться — Прощёный день.
Постскриптум________________________________________
Из статьи И. Шмелёва «Душа Родины»
В великом сонме Святых России, кого своими назвал народ, вы признаете его дух и плоть: Сергия Радонежского, Тихона Задонского, Нила Сорского, Митрофания Воронежского, Серафима Саровского, всерусскими ставших с урочищ и уездов, и многих-многих, души высокой, народных подлинно. < ... > Они, Святые, открывают тайник народного Идеала, русского Идеала, народной Правды, — до поражающего явления русских «старцев», хранителей духовности народной, тех таинственных глубиной колодцев, к которым пытливо и углублённо подходили два великана — Толстой и Достоевский, и в них гляделись! < ... > «По-Божьи» — заветное слово русского народа. Вот с этим-то — «по-Божьи» — творчество наше так и войдёт — и уже входит! — в сокровищницу мира, и этой печати Божьей не отнять от нас, не сорвать, как бы кто ни дерзал на это! Может быть, за «печать»-то эту и получаем мы, русские, удивление р а з у м н ы х европейцев, кличку «странных», что идут туда — не знаю куда, ищут того — не знаю чего. Да, ищем. И найдём, быть может!
16 февраля 1924