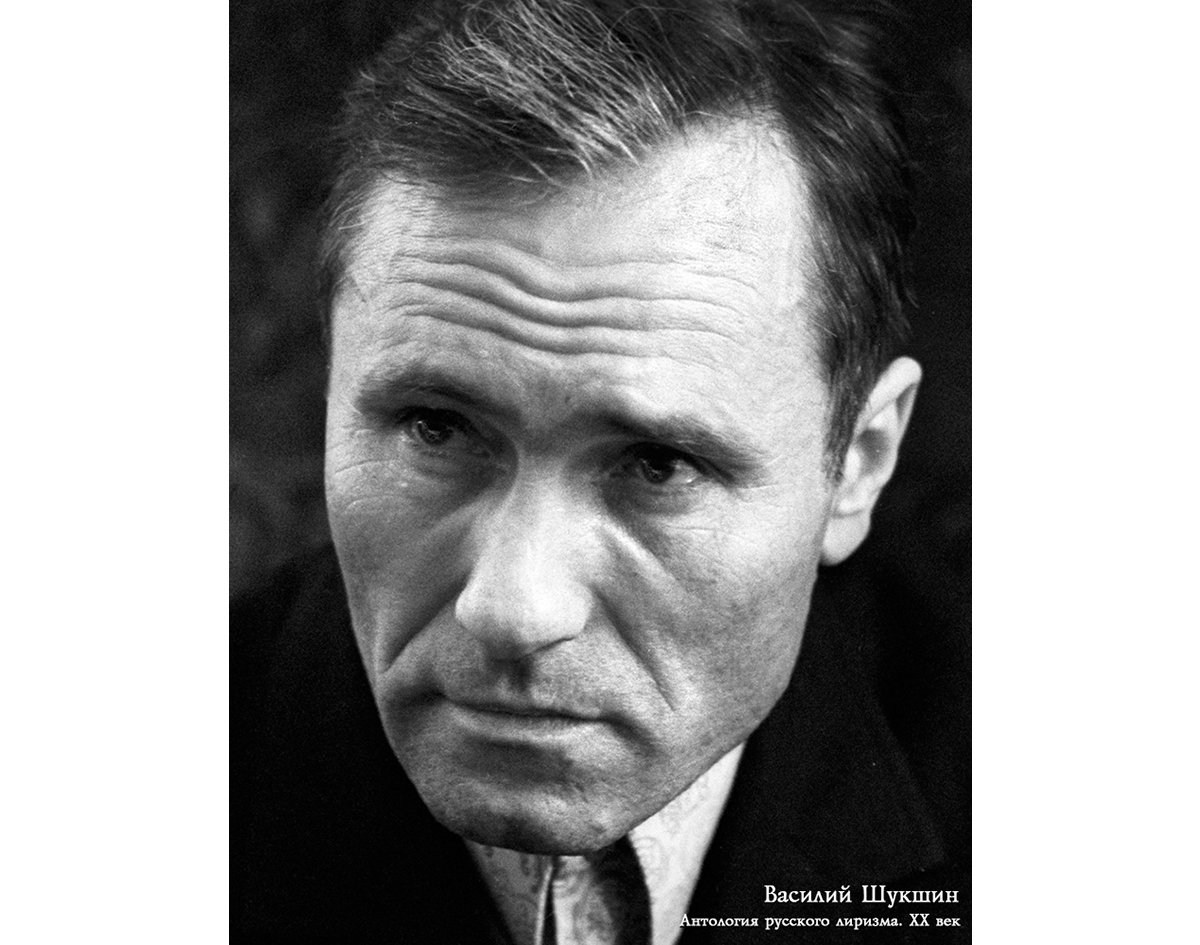«Родился 25 июля 1929 г. в селе Сростки Бийского района Алтайского края*. Родители — крестьяне. Со времени организации колхозов (1930 г.) — колхозники. В 1933 году отец арестован органами ОГПУ. Дальнейшую судьбу его не знаю. В 1956 году он посмертно полностью реабилитирован.
В 1943 г. я окончил сельскую семилетку, некоторое время учился в Бийском автотехникуме, бросил. Работал в колхозе, потом, в 1946 г., ушёл из деревни. Работал в Калуге, на строительстве турбинного завода, во Владимире на тракторном заводе, на стройках Подмосковья. Работал попеременно разнорабочим, такелажником, учеником маляра, грузчиком. «Выйти в люди» всё никак не удавалось». (В. Шукшин, «Автобиография».)
Потом две неудачные попытки поступить в военные училища Тамбова и Рязани, флотская служба (1949–1952 гг.; демобилизован раньше из-за язвы желудка), экзамены экстерном за среднюю школу, преподавание и директорство в школе рабочей молодёжи (1953–1954 гг.); наконец, в 1954 году — режиссёрский факультет ВГИКа...
Первые рассказы, первые публикации, первые роли в кино. В 1963 году — первая книга «Сельские жители», в 1964-м — фильм «Живёт такой парень» по этой книге...
Вышел в люди... И жить оставалось десять лет, в которые уложатся романы «Любавины», «Я пришёл дать вам волю», десятки изданий сборников рассказов, серия фильмов, увенчанная «Калиной красной»**; удостоен ордена Трудового Красного Знамени (1967) , Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Государственной премии СССР (1971 г.).
Умер Василий Макарович Шукшин в станице Клетской (Волгоградская область), снимаясь у С. Бондарчука в фильме «Они сражались за родину». Врач после вскрытия сказал: «Судя по состоянию сердца, он прожил не меньше ста лет...».
В 1976 году В. Шукшину присуждена Ленинская премия за достижения в кинематографии.
Именем писателя названы улицы, театры, пароходы, библиотеки, школы… С 1976 года в Сростках проходят многолюдные Шукшинские чтения.
_____________________
*Прадед В. Шукшина, П. П. Шукшин, — выходец из Самарской губернии; поселился в Сростках в 1867 г.
**На премьеру «Калины...» в Доме кино Шукшина привезли из кутузки — отбывал 15 суток. После увезли досиживать.
* * *
И разыгрались же кони в поле*,
Поископытили всю зарю.
Что они делают?
Чью они долю
Мыкают по полю?
Уж не мою ль?
Тихо в поле.
Устали кони...
Тихо в поле —
Зови, не зови.
В сонном озере, как в иконе, —
Красный оклад зари.
_________________
* Из рассказа «И разыгрались же кони в поле».
На стихи написана музыка А. Земсковым.
В 1943 г. я окончил сельскую семилетку, некоторое время учился в Бийском автотехникуме, бросил. Работал в колхозе, потом, в 1946 г., ушёл из деревни. Работал в Калуге, на строительстве турбинного завода, во Владимире на тракторном заводе, на стройках Подмосковья. Работал попеременно разнорабочим, такелажником, учеником маляра, грузчиком. «Выйти в люди» всё никак не удавалось». (В. Шукшин, «Автобиография».)
Потом две неудачные попытки поступить в военные училища Тамбова и Рязани, флотская служба (1949–1952 гг.; демобилизован раньше из-за язвы желудка), экзамены экстерном за среднюю школу, преподавание и директорство в школе рабочей молодёжи (1953–1954 гг.); наконец, в 1954 году — режиссёрский факультет ВГИКа...
Первые рассказы, первые публикации, первые роли в кино. В 1963 году — первая книга «Сельские жители», в 1964-м — фильм «Живёт такой парень» по этой книге...
Вышел в люди... И жить оставалось десять лет, в которые уложатся романы «Любавины», «Я пришёл дать вам волю», десятки изданий сборников рассказов, серия фильмов, увенчанная «Калиной красной»**; удостоен ордена Трудового Красного Знамени (1967) , Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Государственной премии СССР (1971 г.).
Умер Василий Макарович Шукшин в станице Клетской (Волгоградская область), снимаясь у С. Бондарчука в фильме «Они сражались за родину». Врач после вскрытия сказал: «Судя по состоянию сердца, он прожил не меньше ста лет...».
В 1976 году В. Шукшину присуждена Ленинская премия за достижения в кинематографии.
Именем писателя названы улицы, театры, пароходы, библиотеки, школы… С 1976 года в Сростках проходят многолюдные Шукшинские чтения.
_____________________
*Прадед В. Шукшина, П. П. Шукшин, — выходец из Самарской губернии; поселился в Сростках в 1867 г.
**На премьеру «Калины...» в Доме кино Шукшина привезли из кутузки — отбывал 15 суток. После увезли досиживать.
* * *
И разыгрались же кони в поле*,
Поископытили всю зарю.
Что они делают?
Чью они долю
Мыкают по полю?
Уж не мою ль?
Тихо в поле.
Устали кони...
Тихо в поле —
Зови, не зови.
В сонном озере, как в иконе, —
Красный оклад зари.
_________________
* Из рассказа «И разыгрались же кони в поле».
На стихи написана музыка А. Земсковым.
ИЗ РАБОЧИХ ЗАПИСЕЙ
* * *
Я — сын, я — брат, я — отец... Сердце мясом приросло к жизни. Тяжко, больно — уходить.
* * *
Не теперь, нет.
Важно прорваться в будущую Россию.
* * *
Я воинственно берегу свою нежность. А как больше?
* * *
Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжён и собран. И хорошо, и плохо. Хорошо — не позволил сшибить себя; плохо — начинаю дёргаться, сплю с зажатыми кулаками... Это может плохо кончиться, могу треснуть от напряжения.
* * *
Нас похваливают за стихийный талант, не догадываясь или скрывая, что в нашем лице русский народ обретает своих выразителей, обличителей тупого «культурного» оболванивания.
<1968>
* * *
Разлад на Руси, большой разлад. Сердцем чую.
<1970>
* * *
Один борюсь. В этом есть наслаждение. Стану помирать — объясню.
* * *
Кто мог быть политик по склонностям души у древних? Дурак, который всем мешал охотиться?
<1972>
* * *
Надо совершенно спокойно — без чванства и высокомерия — сказать: у России свой путь. Путь тяжкий, трагический, но не безысходный в конце концов. Гордиться нам пока нечем.
* * *
Чёрт же возьми! — в родной стране, как на чужбине.
<1972>
ИЗ СТАТЕЙ И ЗАМЕТОК
* * *
Больно, когда на деревню вечерами наваливается нехорошая тишина: ни гармонь «никого не ищет», ни песен не слышно... Петухи орут, но и то как-то «индивидуально». Не горят за рекой костры рыбаков, не бухают на заре торопливые выстрелы на островах и на озёрах. Разъехались стрелки и певуньи. Тревожно. Уехали... А куда?
Знатные всегда были и будут, только не они решали и решают судьбу страны.
(«Вопросы самому себе»)
* * *
В войну нам было по двенадцать-шестнадцать лет. Никакого клуба у нас не было. А многие уже работали. Как ни трудна жизнь, а через шестнадцать лет не переступишь. Собирались на вечеринку. С девушками. Была балалайка, реже — гармонь. Играли в фантики, крутили шестёрку... Целовались. И у каждого (кто повзрослей) была среди всех, которая нравилась. Когда случалось поцеловаться с ней при всех — обжигало огнём сердце и готов был провалиться сквозь землю. Но — надо! И этого хватало потом на всю неделю. И ждёшь опять субботу — не приведёт ли случай опять поцеловаться с желанной.
Деревенские старик и мальчик остановились и поздоровались с незнакомым. Я их не знаю и не захлёбываюсь сразу от восторга: «Вот они, настоящие хорошие люди!» Нет, я поздоровался и — по привычке думать — думаю: откуда это у них? Положим, мальчику сказал учитель: «Надо здороваться со всеми». А этот, седой-то?.. Ведь жизнь прожил, устал, наработался, навоевался, наголодался — всякое было. Но неистребимо живёт в нём вот это безкорыстие — «дай вам Бог здоровья!». Так просто, от доброты душевной. Я ему не барин, не председатель сельсовета — человек. Вот он и пожелал мне: будь здоров, живи, ибо жить всё-таки — хорошо. Спасибо. И ты — здравствуй много лет, жить, правда, хорошо, хоть иногда нелегко.
(«Монолог на лестнице»)
* * *
...Но с каких-то странных пор повелось у нас, что деревенского, сельского надо безпрерывно учить, одёргивать, слегка подсмеиваться над ним. Учат и налаживают этакую снисходительность кому не лень: проводники вагонов, дежурные в гостиницах, продавцы...
* * *
Вот тут, у этого тополя, будешь впервые в жизни ждать девчонку... Натопчешься, накуришься... И тополь не тополь, и кусты эти ни к чему, и красота эта закатная — дьявол бы с ней. Не идёт! Ничего, придёт. Не она, так где-нибудь, когда-нибудь — другая. Придёт. Ты этот тополь-то... того... запомни. Пройдёт лет тридцать, приедешь откуда-нибудь — из далёкого далека — и этот тополёк поцелуешь. Оглянешься — никого — и поцелуешь. Вот тот проклятый вечер-то, когда заря полыхала, когда она не пришла-то — вот он и будет самый дорогой вечер. Это уж так. Не мы так решаем, кто-то за нас распоряжается, но... это так. Проверено.
(«Вот моя деревня»)
* * *
Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнёт до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти — неизменно — полати. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живёт во мне. Дороже у меня ничего нет.
Редко кому завидую, а завидую моим далёким предкам — их упорству, силе огромной... Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь — с Севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай. Я только представляю, а они его прошли.
Когда я подъезжаю на поезде к Бийску (от Новосибирска до Бийска поезд идёт ночь), когда начинаю слышать в темноте знакомое, родное, сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть, даже если еду в купе, волнуюсь, начинаю ворошить прожитую жизнь...
(«Слово о “малой родине”»)
* * *
Шолохов вывернул меня наизнанку. Шолохов мне внушил — не словами, а присутствием своим в Вёшенской и в литературе, — что нельзя торопиться, гоняться за рекордами в искусстве, что нужно искать тишину и спокойствие, где можно осмыслить глубоко народную судьбу. Ежедневная суета поймать и отразить в творчестве всё второстепенное опутала меня.
* * *
Сейчас я думаю о коренном переустройстве своей жизни. Пора заняться серьёзным делом. В кино я проиграл лет пятнадцать, лет пять гонялся за московской пропиской. Почему? Зачем? Неустроенная жизнь мне мешала творить, я метался то туда, то сюда. Потратил много сил на ненужные вещи. И теперь мне уже надо беречь свои силы. Создал три-четыре книжечки и два фильма. Всё остальное сделано ради существования. И поэтому решаю: конец кино! Конец всему, что мешает мне писать.
* * *
Отец — расстрелян. Дядя Иван — расстрелян. Дядя Михаил — 18 лет отсидел в лагере, погиб на Колыме. Дядя Василий — сидел в тюрьме, попал в четвёртый раз. Дядя Фёдор — умер в тюрьме. Дядя Иван Козлов — погиб на фронте. Дядя Илья — погиб на фронте в финскую. Дядя Пётр — погиб на фронте. Двоюродный брат Иван — убит сыном из ружья. Двоюродный брат Анатолий — трижды сидел в тюрьме, готовится в четвёртый раз.
* * *
Отчего народ поднимается весь в гневе, когда на пороге враг? Оттого, что всем жалко всех матерей, детей, родную землю. Жалко! Можете не соглашаться, только и я знаю — и про святой долг, и про честь, и достоинство, и т. п. Но ещё — в огромной мере — жалко.
Постскриптум_____________________
Из писем В. Шукшина
Матери — Марии Сергеевне Шукшиной (середина 50-х годов):
Живу очень интересно, мама. Очень доволен своим положением. Спасибо тебе за всё, родная моя. Успехи в учёбе отличные. У нас не как в других институтах, — т. е. о результатах обучения известно сразу. Ну вот пока и всё. Итак, мама, повторяю, что я всем решительно обезпечен. Недавно у нас на курсе был опрос, кто у кого родители... У всех почти писатели, артисты, ответственные работники и т. п. Доходит очередь до меня. Спрашивают: кто из родителей есть? Отвечаю: мать. — Образование у неё какое? — Два класса, отвечаю. Но понимает она у меня не менее министра.
Смеются.
Ну, будь здорова, милая. Твой Василий.
*
Здравствуй, мама! Получил 200 рублей, посылочку (вторую) и письмо. Мама, так что это ты делаешь? Купила пальто. Милая моя, ведь я бы с таким же успехом проходил в шинели осень и весну. Получаю посылочку, опять как маленький вагончик. Что же, думаю, она сюда умудрилась еще положить? Развертываю, а там новёхонькое пальто. Вот тебе раз! Мама, ты где деньги-то берёшь? Пальто мне как раз. Но я пока носить не буду. Вот дотаскаю шинель, а там уж... Деньги у меня есть. Числа до 15 октября денег хватит. Больше не покупай. И вообще, мама, больше ничего не покупай. Сегодня получил твоё письмо с фотографией. Мама, ты как будто немного похудела. Милая моя, напиши честно — как ты живёшь? Как питаешься? У меня в этом отношении всё в порядке. Денег хватает через глаза. Насчёт валенок. Да, мама, придётся, наверное, выслать. Это верно ты говоришь: Москва-то Москвой, а зима зимой...
Сестре Наталье:
Верю в народ. Посмотри на нашу маму... — это народ с большой буквы.
Из книги А. Заболоцкого «Шукшин в кадре и за кадром»
...Кто только не поносил его < Шукшина > в любом застолье в Москве! А венцом подобных нападок была появившаяся вскоре после смерти Шукшина за подписью Фридриха Горенштейна (одного из соавторов Андрея Тарковского, который некогда был сокурсником Василия Макаровича) публикация «Алтайский воспитанник московской интеллигенции. (Вместо некролога)». Настроения, выраженные в этом пасквиле «Вместо некролога», сопровождали последние годы Шукшина, а перед смертью, можно смело утверждать, захлёстывали. Вот несколько показательных отрывков из упомянутого «Вместо некролога», лживые инвективы которых порядочным людям забывать нельзя:
«Что же представлял из себя этот рано усопший идол? В нём худшие черты алтайского провинциала, привезённые с собой и сохранённые, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приёмными отцами. Кстати, среди приёмных отцов были и порядочные, но слепые люди, не понимающие, что учить добру злодея — только портить его. В нём было природное безкультурье и ненависть к культуре вообще, мужичья сибирская хитрость Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему на себя непохожему, что закономерно вело его к предельному, даже перед лицом массовости явления, необычному юдофобству. От своих же приёмных отцов он обучился извращённому эгоизму интеллигента, лицемерию и фразе, способности искренне лгать о вещах ему незнакомых, понятиям о комплексах, под которыми часто скрывается обычная житейская пакостность. Обучился он и бойкости пера, хоть бойкость эта и была всегда легковесна. Но собственно тяжесть литературной мысли, литературного образа и читательский нелёгкий труд, связанный с этим, уже давно были не по душе интеллигенту, привыкшему к кино и телевизору. А обывателю, воспитанному на трамвайно-троллейбусной литературе типа «Сержант милиции», читательская весёлая праздность всегда была по душе. К тому же умение интеллигента подменять понятия пришлось кстати. Так самонеуважение в своё время было подменено совестью по отношению к народу. Ныне искренняя ненависть алтайца к своим отцам в мозгу мазохиста преобразилась в искренность вообще.
И он писал, и ставил, и играл так много, что к концу своему даже надел очки, превратившись в ненавистного ему «очкарика».
На похоронах этого человека с шипящей фамилией, которую весьма удобно произносить сквозь зубы, играя по-кабацки желваками, московский интеллигент, который Анну Ахматову, не говоря уже о Цветаевой и Мандельштаме, оплакивал чересчур академично, на этих похоронах интеллигент уронил ещё одну каплю на свою изрядно засаленную визитку. Своим почётом к мизантропу интеллигент одобрил тех, кто жаждал давно националистического шабаша, но сомневался: не потеряет ли он после этого право именоваться культурной личностью.
Те, кто вырывали с корнем и принесли на похороны берёзку, знали, что делали, но ведают ли, что творят, те, кто подпирает эту берёзку своим узким плечом.
Не символ ли злобных тёмных бунтов, берёзовую дубину, которой в пьяных мечтах крушил спинные хребты и головы приёмным отцам алтаец, не этот ли символ несли они. Впрочем, террор низов сейчас принимает иной характер, более упорядоченный, официальный, и, поскольку берёза дерево распространённое и символичное, его вполне можно использовать как подпорки для колючей проволоки под током высокого напряжения.
Но московский интеллигент, а это квинтэссенция современного интеллигента вообще, московский интеллигент неисправим, и подтвердил это старик, проведший за подпорками отечественных деревьев и отечественной проволоки много лет, а до этого читавший много философов и прочих гениев человечества — вообще известный как эрудит. «Это гений равный Чехову», — сказал он о бойком пёрышке (фельетонном) алтайца, который своими сочинениями заполнил все журналы, газеты, издательства. Разве что программные прокламации его не печатали. Но требовать публикацию данного жанра — значит предъявлять серьёзные претензии к свободе печати.
И, когда толпа, топча расположенные рядом могилы, в которых лежали ничем не примечательные академики, генералы и даже отцы московской интеллигенции, приютившие некогда непутёвого алтайца, когда, топча эти могилы, толпа спустила своего пророка в недра привилегированного кладбища, тот, у кого хватило ума стоять в момент этого шабаша в стороне, мог сказать, глядя на всё это: «Так нищие духом проводили в последний путь своего безпутного пророка».
* * *
Я — сын, я — брат, я — отец... Сердце мясом приросло к жизни. Тяжко, больно — уходить.
* * *
Не теперь, нет.
Важно прорваться в будущую Россию.
* * *
Я воинственно берегу свою нежность. А как больше?
* * *
Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжён и собран. И хорошо, и плохо. Хорошо — не позволил сшибить себя; плохо — начинаю дёргаться, сплю с зажатыми кулаками... Это может плохо кончиться, могу треснуть от напряжения.
* * *
Нас похваливают за стихийный талант, не догадываясь или скрывая, что в нашем лице русский народ обретает своих выразителей, обличителей тупого «культурного» оболванивания.
<1968>
* * *
Разлад на Руси, большой разлад. Сердцем чую.
<1970>
* * *
Один борюсь. В этом есть наслаждение. Стану помирать — объясню.
* * *
Кто мог быть политик по склонностям души у древних? Дурак, который всем мешал охотиться?
<1972>
* * *
Надо совершенно спокойно — без чванства и высокомерия — сказать: у России свой путь. Путь тяжкий, трагический, но не безысходный в конце концов. Гордиться нам пока нечем.
* * *
Чёрт же возьми! — в родной стране, как на чужбине.
<1972>
ИЗ СТАТЕЙ И ЗАМЕТОК
* * *
Больно, когда на деревню вечерами наваливается нехорошая тишина: ни гармонь «никого не ищет», ни песен не слышно... Петухи орут, но и то как-то «индивидуально». Не горят за рекой костры рыбаков, не бухают на заре торопливые выстрелы на островах и на озёрах. Разъехались стрелки и певуньи. Тревожно. Уехали... А куда?
Знатные всегда были и будут, только не они решали и решают судьбу страны.
(«Вопросы самому себе»)
* * *
В войну нам было по двенадцать-шестнадцать лет. Никакого клуба у нас не было. А многие уже работали. Как ни трудна жизнь, а через шестнадцать лет не переступишь. Собирались на вечеринку. С девушками. Была балалайка, реже — гармонь. Играли в фантики, крутили шестёрку... Целовались. И у каждого (кто повзрослей) была среди всех, которая нравилась. Когда случалось поцеловаться с ней при всех — обжигало огнём сердце и готов был провалиться сквозь землю. Но — надо! И этого хватало потом на всю неделю. И ждёшь опять субботу — не приведёт ли случай опять поцеловаться с желанной.
Деревенские старик и мальчик остановились и поздоровались с незнакомым. Я их не знаю и не захлёбываюсь сразу от восторга: «Вот они, настоящие хорошие люди!» Нет, я поздоровался и — по привычке думать — думаю: откуда это у них? Положим, мальчику сказал учитель: «Надо здороваться со всеми». А этот, седой-то?.. Ведь жизнь прожил, устал, наработался, навоевался, наголодался — всякое было. Но неистребимо живёт в нём вот это безкорыстие — «дай вам Бог здоровья!». Так просто, от доброты душевной. Я ему не барин, не председатель сельсовета — человек. Вот он и пожелал мне: будь здоров, живи, ибо жить всё-таки — хорошо. Спасибо. И ты — здравствуй много лет, жить, правда, хорошо, хоть иногда нелегко.
(«Монолог на лестнице»)
* * *
...Но с каких-то странных пор повелось у нас, что деревенского, сельского надо безпрерывно учить, одёргивать, слегка подсмеиваться над ним. Учат и налаживают этакую снисходительность кому не лень: проводники вагонов, дежурные в гостиницах, продавцы...
* * *
Вот тут, у этого тополя, будешь впервые в жизни ждать девчонку... Натопчешься, накуришься... И тополь не тополь, и кусты эти ни к чему, и красота эта закатная — дьявол бы с ней. Не идёт! Ничего, придёт. Не она, так где-нибудь, когда-нибудь — другая. Придёт. Ты этот тополь-то... того... запомни. Пройдёт лет тридцать, приедешь откуда-нибудь — из далёкого далека — и этот тополёк поцелуешь. Оглянешься — никого — и поцелуешь. Вот тот проклятый вечер-то, когда заря полыхала, когда она не пришла-то — вот он и будет самый дорогой вечер. Это уж так. Не мы так решаем, кто-то за нас распоряжается, но... это так. Проверено.
(«Вот моя деревня»)
* * *
Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнёт до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти — неизменно — полати. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живёт во мне. Дороже у меня ничего нет.
Редко кому завидую, а завидую моим далёким предкам — их упорству, силе огромной... Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь — с Севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай. Я только представляю, а они его прошли.
Когда я подъезжаю на поезде к Бийску (от Новосибирска до Бийска поезд идёт ночь), когда начинаю слышать в темноте знакомое, родное, сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть, даже если еду в купе, волнуюсь, начинаю ворошить прожитую жизнь...
(«Слово о “малой родине”»)
* * *
Шолохов вывернул меня наизнанку. Шолохов мне внушил — не словами, а присутствием своим в Вёшенской и в литературе, — что нельзя торопиться, гоняться за рекордами в искусстве, что нужно искать тишину и спокойствие, где можно осмыслить глубоко народную судьбу. Ежедневная суета поймать и отразить в творчестве всё второстепенное опутала меня.
* * *
Сейчас я думаю о коренном переустройстве своей жизни. Пора заняться серьёзным делом. В кино я проиграл лет пятнадцать, лет пять гонялся за московской пропиской. Почему? Зачем? Неустроенная жизнь мне мешала творить, я метался то туда, то сюда. Потратил много сил на ненужные вещи. И теперь мне уже надо беречь свои силы. Создал три-четыре книжечки и два фильма. Всё остальное сделано ради существования. И поэтому решаю: конец кино! Конец всему, что мешает мне писать.
* * *
Отец — расстрелян. Дядя Иван — расстрелян. Дядя Михаил — 18 лет отсидел в лагере, погиб на Колыме. Дядя Василий — сидел в тюрьме, попал в четвёртый раз. Дядя Фёдор — умер в тюрьме. Дядя Иван Козлов — погиб на фронте. Дядя Илья — погиб на фронте в финскую. Дядя Пётр — погиб на фронте. Двоюродный брат Иван — убит сыном из ружья. Двоюродный брат Анатолий — трижды сидел в тюрьме, готовится в четвёртый раз.
* * *
Отчего народ поднимается весь в гневе, когда на пороге враг? Оттого, что всем жалко всех матерей, детей, родную землю. Жалко! Можете не соглашаться, только и я знаю — и про святой долг, и про честь, и достоинство, и т. п. Но ещё — в огромной мере — жалко.
Постскриптум_____________________
Из писем В. Шукшина
Матери — Марии Сергеевне Шукшиной (середина 50-х годов):
Живу очень интересно, мама. Очень доволен своим положением. Спасибо тебе за всё, родная моя. Успехи в учёбе отличные. У нас не как в других институтах, — т. е. о результатах обучения известно сразу. Ну вот пока и всё. Итак, мама, повторяю, что я всем решительно обезпечен. Недавно у нас на курсе был опрос, кто у кого родители... У всех почти писатели, артисты, ответственные работники и т. п. Доходит очередь до меня. Спрашивают: кто из родителей есть? Отвечаю: мать. — Образование у неё какое? — Два класса, отвечаю. Но понимает она у меня не менее министра.
Смеются.
Ну, будь здорова, милая. Твой Василий.
*
Здравствуй, мама! Получил 200 рублей, посылочку (вторую) и письмо. Мама, так что это ты делаешь? Купила пальто. Милая моя, ведь я бы с таким же успехом проходил в шинели осень и весну. Получаю посылочку, опять как маленький вагончик. Что же, думаю, она сюда умудрилась еще положить? Развертываю, а там новёхонькое пальто. Вот тебе раз! Мама, ты где деньги-то берёшь? Пальто мне как раз. Но я пока носить не буду. Вот дотаскаю шинель, а там уж... Деньги у меня есть. Числа до 15 октября денег хватит. Больше не покупай. И вообще, мама, больше ничего не покупай. Сегодня получил твоё письмо с фотографией. Мама, ты как будто немного похудела. Милая моя, напиши честно — как ты живёшь? Как питаешься? У меня в этом отношении всё в порядке. Денег хватает через глаза. Насчёт валенок. Да, мама, придётся, наверное, выслать. Это верно ты говоришь: Москва-то Москвой, а зима зимой...
Сестре Наталье:
Верю в народ. Посмотри на нашу маму... — это народ с большой буквы.
Из книги А. Заболоцкого «Шукшин в кадре и за кадром»
...Кто только не поносил его < Шукшина > в любом застолье в Москве! А венцом подобных нападок была появившаяся вскоре после смерти Шукшина за подписью Фридриха Горенштейна (одного из соавторов Андрея Тарковского, который некогда был сокурсником Василия Макаровича) публикация «Алтайский воспитанник московской интеллигенции. (Вместо некролога)». Настроения, выраженные в этом пасквиле «Вместо некролога», сопровождали последние годы Шукшина, а перед смертью, можно смело утверждать, захлёстывали. Вот несколько показательных отрывков из упомянутого «Вместо некролога», лживые инвективы которых порядочным людям забывать нельзя:
«Что же представлял из себя этот рано усопший идол? В нём худшие черты алтайского провинциала, привезённые с собой и сохранённые, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приёмными отцами. Кстати, среди приёмных отцов были и порядочные, но слепые люди, не понимающие, что учить добру злодея — только портить его. В нём было природное безкультурье и ненависть к культуре вообще, мужичья сибирская хитрость Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему на себя непохожему, что закономерно вело его к предельному, даже перед лицом массовости явления, необычному юдофобству. От своих же приёмных отцов он обучился извращённому эгоизму интеллигента, лицемерию и фразе, способности искренне лгать о вещах ему незнакомых, понятиям о комплексах, под которыми часто скрывается обычная житейская пакостность. Обучился он и бойкости пера, хоть бойкость эта и была всегда легковесна. Но собственно тяжесть литературной мысли, литературного образа и читательский нелёгкий труд, связанный с этим, уже давно были не по душе интеллигенту, привыкшему к кино и телевизору. А обывателю, воспитанному на трамвайно-троллейбусной литературе типа «Сержант милиции», читательская весёлая праздность всегда была по душе. К тому же умение интеллигента подменять понятия пришлось кстати. Так самонеуважение в своё время было подменено совестью по отношению к народу. Ныне искренняя ненависть алтайца к своим отцам в мозгу мазохиста преобразилась в искренность вообще.
И он писал, и ставил, и играл так много, что к концу своему даже надел очки, превратившись в ненавистного ему «очкарика».
На похоронах этого человека с шипящей фамилией, которую весьма удобно произносить сквозь зубы, играя по-кабацки желваками, московский интеллигент, который Анну Ахматову, не говоря уже о Цветаевой и Мандельштаме, оплакивал чересчур академично, на этих похоронах интеллигент уронил ещё одну каплю на свою изрядно засаленную визитку. Своим почётом к мизантропу интеллигент одобрил тех, кто жаждал давно националистического шабаша, но сомневался: не потеряет ли он после этого право именоваться культурной личностью.
Те, кто вырывали с корнем и принесли на похороны берёзку, знали, что делали, но ведают ли, что творят, те, кто подпирает эту берёзку своим узким плечом.
Не символ ли злобных тёмных бунтов, берёзовую дубину, которой в пьяных мечтах крушил спинные хребты и головы приёмным отцам алтаец, не этот ли символ несли они. Впрочем, террор низов сейчас принимает иной характер, более упорядоченный, официальный, и, поскольку берёза дерево распространённое и символичное, его вполне можно использовать как подпорки для колючей проволоки под током высокого напряжения.
Но московский интеллигент, а это квинтэссенция современного интеллигента вообще, московский интеллигент неисправим, и подтвердил это старик, проведший за подпорками отечественных деревьев и отечественной проволоки много лет, а до этого читавший много философов и прочих гениев человечества — вообще известный как эрудит. «Это гений равный Чехову», — сказал он о бойком пёрышке (фельетонном) алтайца, который своими сочинениями заполнил все журналы, газеты, издательства. Разве что программные прокламации его не печатали. Но требовать публикацию данного жанра — значит предъявлять серьёзные претензии к свободе печати.
И, когда толпа, топча расположенные рядом могилы, в которых лежали ничем не примечательные академики, генералы и даже отцы московской интеллигенции, приютившие некогда непутёвого алтайца, когда, топча эти могилы, толпа спустила своего пророка в недра привилегированного кладбища, тот, у кого хватило ума стоять в момент этого шабаша в стороне, мог сказать, глядя на всё это: «Так нищие духом проводили в последний путь своего безпутного пророка».